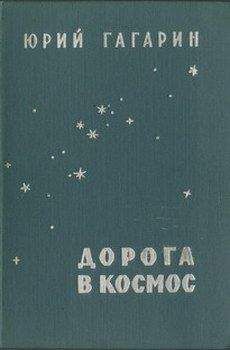— Я не кичусь, — Раиса пожала плечами. — Но твои философствования здорово напоминают речь на выпускном вечере.
— А что, всё может быть. Может, я примерно так и скажу. Хотя готовиться к речи я точно не буду. Всё будет так: я хлопну рюмашку за кулисами и начну нести всё, о чём буду думать перед этим в течение нескольких дней. У меня это хорошо получается, складно.
— Если ты и хлопнешь рюмашку, то это будет рюмашка кефира, — Раиса захихикала.
Ирка сверкнула в темноте глазищами, сделала подсечку и повалилась на упавшую подругу. Товарищ Эрнандес принялась притворно барахтаться, повизгивая при этом как бы беспомощно. Из-под соседнего ЯКа прилетел шлёпанец и чуть не опрокинул кефир, коротко проскользив по бетонке.
— Мы не даём людям спать, — близко зашептала Горячева, прикладывая палец к губам Раисы. — Цыц!
— Слезай, — сказала та снисходительно.
Украинская ночь, как водится, была тиха и глубока. Кузнечики давно отстрекотались, жаворонки ещё не проснулись. Только в вышине, под сонмами цветных искр, ходили великаны-ветры, и Раиса, улёгшись на спину, чувствовала себя на дне необычайно глубокого колодца, в который опрокидывалась, дышала вся Вселенная, прислушиваясь к биению крошечного человеческого сердца. И это сердце, маленькое, слепое сейчас, как новорождённый котёнок, тыкалось в ладони пространства, пищало как будто «я – человек, я – человек»; или, словно спутник, заключённый в орбиту, посылало колебания еле заметного стука – в надежде, что этот сигнал кому-то будет нужен, хотя бы через множество веков. У Раисы закружилась голова, она ощутила, что теряет границы своего тела.
Это было тем более замечательно, если вспомнить, у кого, вообще-то, имелся самый крепкий на курсе вестибулярный аппарат. И кто не далее как вчера выкидывал в небе сумасшедшие по меркам прошлого фортели, пользуясь управляемым вектором тяги и автоматом ЭДСУ.
— Слушай, у тебя голова кружится? — спросила Ирка.
— Да…
— У меня тоже. Это «Куба Либре».
— Не говори глупости. Мы выпили совсем немного.
— Совсем не нужно было пить. Мне достаточно кефира.
— Я не заставляла тебя пить.
— Мы же подруги, — светло вздохнула Ириска. Их так и называли на курсе: «Ириска и Раиска».
А всё дело в том, что они подружились задолго до училища, и вместе – так получилось само собой – поступили сюда после восьмого класса. Их отцы работали в одной бригаде и как раз готовились к своей первой вахте, учились охотиться за сокровищами Пояса. Это было три года назад, и в воображении четырнадцатилетней Раисы рисовалось тогда грандиозное: как папа со своей бригадой берёт на абордаж здоровенную каменюку, как в бесшумном великолепном космосе падают со всех сторон автобурильщики, а отец курит сигару (в балкере!); в ухе у него, естественно, серьга, а на плече – попугай. И борода, как у барбудос. Все азартно подмигивают друг другу по связи и орут на весь эфир: «Йо-хо-хо! Пятнадцать человек на сундук…» А потом возвращаются с вахты победителями, и отцу вручают Героя Труда прямо в стыковочном шлюзе «Памира».
Если б всё было так, как в приключенческих фильмах, как в детских фантазиях, — без жутких космических смертей, когда хоронить нечего, без чёрных венков с блескучими звездочками в лентах…
А ведь Раису, между прочим, чуть не забраковали. Родители в другом полушарии сдали свои нормативы на «отлично» и отбыли на орбиту, звонили оттуда со сдержанно-восторженными лицами, довольные собой. А она сидела в кабинете Андроникашвили и хотела его убить. Перед ней на столе лежала бумажка, копия той, что пришла накануне в ридер. В бумажке значилось, что по причине неполного физического соответствия в зачислении решено отказать, несмотря на высокие вступительные баллы. Дальше там выражалось глубочайшее сожаление, и лучше бы на столе вместо бумажки покоилось мачете. Раиса сидела и смотрела мимо полковника, вцепившись под столом в собственные локти, а рядом, стоя, ораторствовала Ирка.
Ирка пылала комсомольским праведным гневом. Она жгла глаголами, существительными, прилагательными, налегала на местоимения с наречиями и даже позволяла себе некоторые междометия. Дон Андрон улыбался в усы. Ириска в итоге выпалила, что, если не зачислят Эрнандес, то и Горячевой в училище делать нечего. Шеф поднял брови, в задумчивости погладил шею за воротником форменной рубашки и попросил её не кипятиться. Сказал густым своим басом, что у Горячевой нет таких увечий, как у Эрнандес, и в этом между ними существует определённая разница. Тогда Ирка ляпнула про Гватемалу. Зря она это сделала. Потому что дело-то вовсе не в Гватемале…
Но на шефа, что называется, возымело. Он связался с родителями и посоветовался с ними. Справка о зачислении пришла в ридер через час.
Вообще, не должно быть важно, по какой причине человек лишился мизинца на правой руке. Люди без ног летали, а она могла потерять целое небо из-за какого-то пальца. В чём разница? Мало ли в какую ситуацию можно попасть, можно на улице получить любое увечье, на ровном месте, в мирное время, не по своей вине. Тоже, придумали проблему – мизинец. «Неполное физическое соответствие». Вариант гуманного отношения к людям, от которого с души воротит; забота, лишающая мечты.
Но когда случайно выясняется, что в тринадцать лет маленькая, незаметная часть твоего тела осталась в Гватемале, среди испятнанных пулями стен, когда всё вокруг дрожало и глохло, и слепло в едком дыме, когда страшно рикошетило в тесных проулках, и нескольких детей внесли в самолет уже бездыханными, а на площади перед зданием аэропорта, где рванула цистерна, вдруг вспыхнули и почти мгновенно сгорели на флагштоках флаги – все, и друзей, и врагов… Тогда ты, по неизвестной причине, имеешь право на поблажку, тогда, в обход инструкций, тебе можно будет понять, как это – не чувствовать своего веса…
Ну да, в тот год, конечно, что-то в очередной раз сместилось в мире, но у советских людей отношение к тем событиям всё же особое. Раиса после случая с зачислением несколько раз шутила: «Это у вас потому, что аэропорт называется не «Гранма», а «Аврора».
…Усталость накапливалась, и Раиса рывками проваливалась в сон. Ноги вдруг переставали турбинно гудеть, исчезали в невидимой томной мякоти, потом пропадали руки, потом шла с шестом наперевес по канату, вроде тех ребят из Цовкры, только в Гаване, над крышами Серро. Потом замирала, боясь упасть, и выныривала из дрёмы обратно в тёплую ночь. Ириска, прилепив гибкий альбом ридера к нижней поверхности крыла, лежала рядом и пялилась на экран. Там были Москва, Дворец пионеров, друзья-моделисты и большой воздушный змей. Как говорится, каждому своё. Ветер свежел, оставаясь тёплым, пахло далёким дождём.
![СССР 2061 - СССР-2061. Том 5[сборник рассказов ; СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)
![СССР 2061 - СССР-2061. Том 4[сборник рассказов ; СИ]](https://cdn.my-library.info/books/104930/104930.jpg)